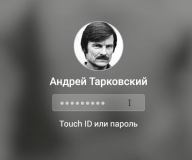Мнения критиков о последнем фильме Йоахима Триера вращаются вокруг двух тем: изменение традиционных гендерных ролей и активное внедрение новых медиа в визуальную и нарративную структуру. Так норвежскому режиссеру удалось подступиться к «образу настоящего», с репрезентацией которого у многих современных авторов есть затруднения. Если же фильм о «настоящем» все-таки говорит, то в нем непременно пытаются отыскать негативные интонации. «Громче, чем бомбы» не стал исключением. Если к феминистской линии все еще более-менее лояльны и не пытаются осудить героиню Изабель Юппер за то, что детям она предпочла экстремальную карьеру военного фотографа, то во втором случае победил критический дискурс о современном порядке вещей: технологии и виртуальное пространство переводят подлинные эмоции в байты информации. И фильм действительно дает повод так подумать: достаточно того, что наименее общительный член семьи — младший сын (Девин Друид) — связан с самым «агрессивным» для не привыкших к медиа-культуре проявлением современности — компьютерными играми. Однако, как нам кажется, Триер смотрит на эти явления с совершенно другого ракурса.
Будь «Громче, чем бомбы» о невозможности коммуникации, это делало бы его морализаторским высказыванием на тему непреодолимого отчуждения. На этот раз не просто в экзистенциальном смысле, но с очевидной ноткой общественной критики: мы больше не можем ничего сказать потому, что практики нашего общения перешли в виртуальное пространство, где все «не по-настоящему». Подобное мнение исходит из того, что «правильный» акт взаимодействия возможен только лицом к лицу — именно это основание и подвергается у Триера переоценке. Так что «Громче, чем бомбы» не о том, что коммуникация невозможна, а о том, как общаться вне языка, а, еще точнее, вне речи.
Йоахим Триер по-чеховски позволяет героям говорить о каких угодно несущественных вещах, не давая сказать о важном. Вместо: «Приходи домой поскорее!» — отец (Гэбриэл Бирн) говорит: «Я сделаю тако». Когда Конрад читает в газете статью о самоубийстве матери, за кадром звучит голос друга: «А если я заплачу в два раза больше, вы продадите мне пиво?». Камера в фильме не столько помогает развиваться повествованию, сколько наблюдает. В первом эпизоде в больнице мы узнаем о сложных отношениях между героем Джесси Айзенберга и его женой вопреки сказанному: «Я ничего не принес, я все обошел, было закрыто» (на самом деле нет) — «Ничего страшного» (на самом деле нет). И уже кажется, что с первой сцены перед нами структурный принцип картины: слова будут лгать, а крупные планы уличать во лжи. Способ совмещения изображения и звука, когда-то, что мы видим, противоречит тому, как об этом говорят в кадре, далеко не нов, а камере здесь отводится специфическая роль «третьего», который, внимательно наблюдая за лицами, указывает на пропасть между ними.

Однако в фильме Триера все не так безнадежно: герои не сдаются перед непреодолимой беспомощностью собственной речи, а изобретают новые способы быть услышанными. Первооткрывателем в этом непростом деле стала Изабель, которая с помощью фотографий-следов передала семье бесценный опыт того, как сказать, не прибегая к словам. Событие противится проявлению в речи, но можно помочь ему заявить о себе иначе: здесь пригодится все — от традиционного литературного текста до сетевых медиа. Так и восстанавливается в фильме утраченный образ героини Юппер: посредством документального кино, архива фотографий, статьи, написанной близким другом. Разговоры о матери ничего не объясняют, замыкаясь на несущественном, и только другие средства выхватывают суть. Интересно, что перед тем, как средство коммуникации было обретено, Изабель не отрекалась от речи: флэшбек, в котором она рассказывает мужу о своем сне, оказывается поворотным — образ, рожденный сновидением, противится переводу в слова, требуя нового медиума. «Станут ли эти фотографии частью истории одной семьи, желающей рассказать миру о своей трагедии», — рассказ больше не требует слов, он переводится в изображения.
Яснее всего опыт матери понимает младший сын Конрад, переходя от фотографий к целому спектру способов коммуникации: личный дневник и книги, видеоигры и ютьюб. Именно Конрад ставит крест на возможности общения с помощью речи, оставляя шанс языку только в качестве текста. В классной комнате прочитываемый вслух литературный текст транслирует его чувства; дневник он передает понравившейся девушке — «так она меня узнает». При этом дневник-текст больше не воспринимается как что-то сугубо приватное — это тот же статус-текст в фейсбуке — принципиально открытый, никому не принадлежащий.

После смерти матери Конрад также перенимает и ее функцию транслятора нового языка. Именно с его помощью отец и старший сын понемногу проникают в мир новых способов высказывания. Герой Айзенберга, предстающий патологическим лгуном, именно с помощью младшего брата соприкасается с понятием истинности и способом ее измерения: «Люблю краткое и достоверное видео. Достоверность — это самое главное». Краткое видео не лжет, лгут слова, произнесенные по телефону. Даже герой Бирна, озадаченный поиском «общего языка» с сыном, находит выход в совместном пребывании в виртуальном пространстве игры The Elder Scrolls.
Было бы ошибкой предполагать, что Триер находится в поисках универсального рецепта, призванного решить проблему человеческой разъединенности, — такого просто не существует. Опыт кинематографа утверждает это снова и снова. Образ настоящего заключен теперь не в разговоре за ужином, а в совместной онлайн-игре, но это не представляет собой проблемы. «Люди не способны услышать друга», — говорили нам Бергман, Антониони, Тарковский. Не способны и сегодня, но, как и прежде, находятся в поиске. Для коммуникации теперь непременно нужны медиа: общение между профилями в социальных сетях — это не антиутопия, а реальность. Отказавшись от критики, Триер говорит о «настоящем», помогая зрителям, выросшим на эстетике «новых волн», привыкать к тому, что современные девайсы — не всадники Апокалипсиса.